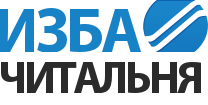Нина ГАГЕН-ТОРН. ПУТЬ К СЕВЕРУ
Нина ГАГЕН-ТОРН. ПУТЬ К СЕВЕРУ
Гаген-Торн Нина Ивановна. Родилась в Петербурге в 1900 г. Одна из старейших советских этнографов, кандидат исторических наук. После окончания Института народов Севера много работала в экспедициях, занималась изучением народов Севера, народов Поволжья, а в последующие годы — русских в Сибири. Автор более чем 50 научных работ и двух книг, в том числе книги о профессоре Л. Я. Штернберге, основоположнике советской этнографической школы. Высокую оценку заслужила поэма Н. И. Гаген-Торн о юности М. В. Ломоносова. Последние годы, до того как резко ослабло зрение, Нина Ивановна работала над книгой по истории советской этнографии, писала и пишет воспоминания, отрывок из которых здесь и приводится. Живет в Ленинграде.
Начало пути
Перед отправкой на практику профессор В. Г. Богораз проводил общее собрание студентов. Профессор был толст и подвижен, как мяч. Розовый череп его сиял в белой опушке волос. Водянисто-голубые насмешливые глаза озорно блестели. «Поехать смогут многие. Денег отпущено маловато, но у нас появился вот этот обменный фонд: удалось достать из бывшего дворцового ведомства. — Он ткнул пальцем в груду красных фраков, лежащих на помосте. — Красное сукно необходимо для отделки национальной одежды по всему Северу... Подарите полосу красного сукна — и будете желанным гостем. А теперь подходите к Сереже, проверьте, кто куда записан, и распишитесь в получении фраков».
— Владимир Германович, я не записана. Запишите меня в Лапландию! Я очень хочу в Лапландию.
— А где вы раньше были? — спросил профессор.
— Я думала, эта практика для старших курсов.
— Все хотят экзотики, всем нужен Север! Этнографией можно заниматься всюду, — пылко сказал профессор. — За углом, на канале, стоит баржа с горшками — это тоже этнография.
— Горшки сделаны на гончарном круге, о налепе хозяин ничего не знает, — ответила я.
— А вы-таки спрашивали?— усмехнулся профессор.— За это запиши ее в Лапландию, Сережа. Но кажется, кто-то уже едет туда?
— Лиза Орлова и Федя Физик, — ответил секретарь Стебницкий, поднимая лохматую голову.
— «М» и «Ж» уже есть. Как бы еще одно «Ж» не осложнило работу, — пробормотал профессор. — Как с деньгами? — спросил он громко.
— Остался один червонец и красный фрак. Не надо было опаздывать.
— А литеры есть?
— Бесплатные литеры по всему Союзу, — гордо ответил Стебницкий.
— Тогда, значит, еду!
Худой и высокий профессор Штернберг, декан, поднялся на помост. Посмотрел список:
— Вы их кидаете на практику, как в воду щенят, — тихо сказал он, покачивая головой.
— Сильных так и отбирают, — усмехнулся Богораз. — Те, кому быть этнографом, научатся, остальные отсеются. Нужны нам кисейные барышни обоего пола?
— Не нужны, — кивнул Штернберг. Так я попала на практику...
— А в чем, дочка, твоя практика будет? — спросил в вагоне седой длиннобородый старик.
«Начинается! — подумала я. — Как объяснить этому старику свою задачу?»
— Видите ли, дедушка, я изучаю, где да как люди живут, какие у них обычаи, порядки, житье.
— Так, а пошто ты это изучаешь?
— Чтобы люди знали и в книгах написали, где худо, где хорошо живут.
— Хорошо там, где нас нет, это уже известно, — сказал старик.
— А вдруг мы там и окажемся? — улыбнулась я.
— Ну ладно! — согласился старик, отрезая ломти семги. — Угощайся-ка семушкой, детушка!
— А вы пирожки мои кушайте, пожалуйста, — сказала я.
— Пирожки чать не твои, а матушкины, не ты стряпала, — шутил старик, — а семушка — моеловная.
— Вы рыбак? Помор?
— Поморянин.
— Откуда?
— С Колы. Про Колу слыхивала?
— Как же, около Мурманска поселок.
— Не Кола коло Мурманска, а Мурманск коло Колы ставлен, — строго сказал старик. — Кола из веков стоит, еще ковда, может, и Москвы не было.
— А вы, дедушка, откуда это знаете?
— Помним. От Господина Великого Новгорода сюда люди набегали. С норвежанами здесь торги велись. От дедов-прадедов знаем. В церкви у нас и книга была счисления лет, где писано, ковда Кола стала и ковда церковь ставлена и грамоты жалованы от царя Ивана Васильевича... Слыхали про такого царя? Грозным прозывался...
 |
| Молодой этнограф Нина Гаген-Торн |
— Где же эта грамота, дедушка? И сейчас в церкви?
— Англичане увезли, книги и грамоты. Англичане у нас были. Не в досюльные годы-то, нет, теперь приходили. Церкву все рисовали да на карточку снимали, а книги, бают, увезли. Да ты гости к нам в Колу, там те все обскажут.
— А песни у вас старинные есть?
— Песням как не быть, где люди, там и песни живут.
— Я приеду обязательно! Как вас зовут, дедушка?
— Морей Иванович, а прозвище Шаньгин. Песни лучше всех моя старуха знат. Она как заведет были- небывальщины — не переслушать! С Зимнего берега она, с Золотницы; там место певчее, поют постатейно и старину хранят. Я как на Новую Землю ходил, все с золотничанами, с жениной родней зимовал. У них старик был — ну, старик! Его с собой для утехи зимовать брали. Зверовать он стар, не неволят, а долю дают: старины сказывай, песни выпевай. Без этого на зимовке нельзя. Заскучат какой парень — тут цинга и привалится. Как она заманиват, знаете? Девушкой прикинется, в губы целовать начнет — лежи не вставай! А рот в крови. Сон нападат. Поддался парень — и сгинул. Тут надо: распотешил бы кто! Про то и держат сказителей!
— Вот так способ лечения цинги, — усмехнулась я.
— Ты, дочка, не зимовала, так не перечь! Человек без песни — что птица без крыльев... или уха без соли, — усмехнулся старик. — Где люди, там и песни. Гости к нам в Колу, увидишь.
Он сошел на станции Кола, а я доехала до Мурманска. Мурманск в те времена был двухэтажным бревенчатым городом с немощеными улицами. Он кипел, как живорыбный садок, заезжими людьми. Облстрой, Облисполком, Облжелдор — пестрели названия на домах. А улицы были без названий. Я разыскала отдел культуры, записалась и решила, что успею съездить в Колу.
В Колу
Я сошла с железнодорожного пути, будто переступила в другое время — в стародавние годы.
Застыли на берегу светлого залива большие бревенчатые дома-хоромы из кондового леса. У одних — окна в два ряда, один над другим, у других — в один ряд, высоко над землей. Распахнуты узорные ставни. Сбоку крыльцо, широкий бревенчатый въезд. Двор — под одну крышу с жильем. Торчат над крышами деревянные конские или птичьи головы.
Не тесня друг друга, просторно, стоят усадьбы. Вокруг — ряды кольев; шипит ветер, покачивая на них сети.
Как вожак среди стада, на пригорке — колоколенка. Церквушка невелика. Темные бревна в многоугольных перекрещениях; в куполах — многошатровая крыша. Резная галерейка ведет на высокую звонницу. За церквушкой — вода. Церквушка улыбается воде и небу, словно родилась от них, выросла, и стоит радуется тишине... Черные карбасы и высокие с резными носами йолы стояли на воде. Вода так тиха, что отражались в ней и карбасы, и церквушка, и хоромы, и дальние горы, и розовые, предвечерние облака.
Вдоль по улице шла-плыла статная девушка в длинной темной одежде: несла на плечах коромысло с ведрами, полными воды, они — не шелохнутся. Может, она тоже — только отражение?
Я пошла, твердо ступая по каменистой земле. Точно погрузилась в подводный мир стеклянной прозрачности. Передвинулась машина времени, и я попала в семнадцатый век, или просто пригрезилась сказка? В зарю уплывала многоярусная, многошатровая церквушка.
Поправив наплечные ремни рюкзака, я посмотрела на ближайший дом: в нем отодвинулось боковое окошечко. Высунулась старушка в темном повойнике:
— Кого тебе, умница? — спросила, прищуривая светлые глаза.
— Морей Иванович где живет? Скажите, пожалуйста.
— А к нему и попала, голубка, — улыбнулась старушка, — проходи в хоромы-те: не заперто.
Я поднялась на высокое крыльцо и шагнула в сени. На пороге хозяйка улыбалась:
— Ты, что ли, песни собираешь? — спросила она. — Старик-от сказывал. Ну, проходи, проходи. Просим милости.
Я перешагнула порог. Золотистые лики икон глянули из большого утла. Хлебным теплом дохнула печь. У окон белели лавки.
— Морей Иванович, значит, про меня рассказывал? — спросила я.
— Сказывал, сказывал.
— А вы жена его?
— Она самая.
— Мне он про вас рассказывал, только как звать — не сказал.
— Зовут меня Марфа, величают Олсуфьевна, — отвечала хозяйка, — а твое как имячко?
— Нина.
— Ну, разболокайся, Нинушка, разболокайся, садись, моя дочушка. Пословица сказывает: прежде напой, накорми, тогда — спрашивай.
Марфа Олсуфьевна поправила сухими, тонкими руками темный платок на повойнике, сняла с толбчика возле печи большой белый самовар, неторопливо надела трубу. Собирая на стол, стала'рассказывать:
— Старик-от мой вернулся из Питера, сказывал: стретилась девушка, сама бойка-баска, про песни спрашиват. К нам гостевать собирается. Ну, говорю, гость в дому — серебро, песня — золото.
— Марфа Олсуфьевна! Ваши песни слушать хочу. Морей Иванович говорил, какая вы песельница.
— Хвастат! Смолоду певала, а теперь уж што.
— А старины знаете?
— Это знаю; у нас в роду старины все сказывают.
— А мне скажете?
— Там поглядим, как управимся. Скоро старик вернется, семушки принесет, уху варить станем. Садись гостевать, девушка.
Поставила на стол самовар, вытерла полотенцем толстые, с синим краем чашки.
— С Норвеги чашки привезены, — сказала она, заметив, что я их рассматриваю. — Свекор-батюшка в Норвегу каждый год йолы водил, с Норвеги что привозил. Норвежане ему знакомы были: как на Колу прибегут с кораблям, у нас стояли.
— А почему норвежцы сюда приезжали?
— Исстари торги у них с Колой. У нас семгу берут, олений да беличий мех, нам сукна везут, снасти... На том Кола стоит — торги заводить. Еще с Господина Великого Новгорода мужики сюда торговать прибегали с Норвегою. Ты про Садка слыхивала?
— Ну, слышала! Да вы расскажите!
— Дай срок, скажу. — Хозяйка налила чаю мне и себе, подвинула пирог с рыбой и блюдце с мелко крошенным сахаром.
— Вы исконние, здешние?
— Старик мой здешнего коренью, а я с Зимнего берега, с Золотницы. Марфа Олсуфьевна из-за самовара разглядывала меня. Я слегка стеснялась, давая себя рассмотреть. «Пусть, пусть, — думала я, — надо привыкать. Профессор Штернберг говорил: лучший способ приобрести доверие — показывать себя. Насмотрятся — сами начнут рассказывать». Марфа Олсуфьевна спросила:
— А вы чьих будете? Родители живы ли?
— Живы родители, в Петрограде живут, я с ними. В институте учусь. Сюда, на Мурман, нас, трех студентов, на практику послали.
— Как же отпустила тебя матерь, таку молоденьку?
— Я вовсе не такая молоденькая, мне уж двадцать первый год! Кто меня удержать может? — задорно сказала я.
Марфа Олсуфьевна засмеялась, но посмотрела укоризненно:
— Матерь всегда удержать может. Вон у меня сыны вовсе большие мужики, а скажу — удержатся. Один женатый, отделен, а из материнского послушания все одно не выходит. А ты ишь какая выросла, выискалась!
Я покраснела и в ту же минуту поняла: эта краска, ребячливая беспомощность сделали больше, чем любой обдуманный прием: завоевали доверие.
С потеплевшими глазами хозяйка села к окну.
— Ну, — сказала она, — коли хошь, слушай, спою тебе старину. Она протянула руку, взяла начатую вязать сеть, сделала несколько быстрых движений челночком, потом подняла голову, поглядела на окно и запела. Пела негромко: «Жила-была чесна вдова Мамельфа Тимофеевна...» Дальше в песне говорилось, как стал собираться сын ее на богатырские подвиги, стал на колени, просил материнского благословения. Не благословила сына ехать Мамельфа Тимофеевна. И опять стал на колени сын, в землю поклонился.
— Вишь, — прервала пение Марфа Олсуфьевна, — богатыри у матери спрашиваются, а ты говоришь! Материнско благословение — сила.
Олсуфьевна сидела, прислонясь к наличнику окна. Прямой, сухощавый очерк ее лица темнел в закатном огне. Словно пела про сестру — вдову Мамельфу Тимофеевну: собирает сына, наставляет молодецкую силу с мудрой материнской строгостью. Стоит сын: большой, удалой, озорной, а не смеет поперечить матери.
И я догадалась: всегда так было — сидела мудрая женщина в доме, держала в руках ключи или прялку. Не пряжу, а долгую нить памяти своего народа плела. Приходят к ней сыновья, разудалые, буйные, становятся на колени, просят благословения. Кто просил — получал, тот и путь находил.
Отворилась дверь, тихо вошли две женщины. Перекрестились, молча поклонились образам и хозяйке, сели на лавку. Марфа Олсуфьевна кивнула и продолжала вести сказ.
Пришли еще люди. Седой старик на лавку сел, положил локти на колени. Две девушки сидели, подняв лица. У женщины — мальчик, посапывая, стоял между колен.
Я хотела записывать песню, но поняла, что это невозможно. Запись нужна потом, после первого раза.
Становилось синее в избе. Опять отворилась дверь, вошел Морей Иванович и с ним какой-то чернобородый, носатый мужик.
— Пришел? — прервала пение хозяйка. — Да и гостя хорошего привел! Милости просим! Здравствуй, Герман Михайлович!
— Здравствуйте, Марфа Олсуфьевна, — ответил чернобородый, — да ты пой, не обрывай песню.
— Я, почитай, кончила. Надо ужин собирать. Гостя баснями не кормят... При огне я рассмотрела чернобородого Германа. Он был кряжист, невысок, одет в серую куртку, темные брюки. Крутой тонкий нос оседлан очками. Черная борода прятала нижнюю часть лица и делала его старше, но глаза из очков смотрели по-детски: серьезно и доверчиво.
Он говорил, как помор, но в гибких интонациях голоса чувствовалась возможность другой речи.
— Давайте знакомиться, заезжая гостенька, — сказал он, протягивая мне руку и рассматривая меня с веселым интересом. — Крепе, Герман Крепе. Вы из Петрограда пожаловали?
— Да. — отвечала я, называя себя и охотно поддаваясь дружескому интересу Крепса. — Из Петрограда на практику. Я из Географического института.
— Так, так! Еще одна экспедиция? Скоро здесь будет на каждого лопаря по исследователю, но это хорошо! Вы на каком факультете?
— Этнограф. А вы что делаете?
— Быка вожу по Мурману.
— То есть как это возите?
— Очень просто: в вагоне. Три четверти вагона — под быка, четверть — под меня, так и живем.
— Но куда же и зачем вы его возите?
— На коровьи свадьбы. Бык один на всю Мурманскую дорогу. Несколько лет назад по всему Мурману ни одной коровы не было. Я — агроном. Вопросами животноводства, как и всем здесь, до сих пор занималась железная дорога. Я ведаю животноводством. Приходится самому возить быка, лечить коров, читать лекции, изучать и гербаризировать флору для выяснения возможностей животноводства и его кормовой базы... И еще многое другое. До войны это был совершенно дикий край. Война выдвинула необходимость Мурманского порта и постройку железной дороги. Но только после революции, когда прогнали англичан, оккупировавших край, его стали изучать и осваивать.
По мере того как он говорил, отпадал поморский акцент, зазвучала привычная питерская речь.
— Вы из Петрограда? — спросила я.
— Был когда-то. Теперь лопарем стал. Хорошо здесь: места нетронутые, птицы непуганые, звери неловленые, люди непорченые. «Край непуганых птиц» — читали у Пришвина?
— Ишь, Герман Михайлович места наши нахваливат... Садитесь к столу-то! — сказала хозяйка.
— Свои места хвалить нечего, — усмехнулся Герман Крепе, пропуская меня на лавку.
— Вы не любите Петроград? — удивилась я.
Герман покрутил бороду и усмехнулся, блеснув очками:
— Ну, пожалуй, люблю. Но жить в каменном мешке не могу: ни неба над головой, ни земли под ногами, ни мыслей в голове... Тянет Север. Говорят, этим заболевают, любовью к Северу.
— Интересная болезнь, возможно, и я заболею. Похоже — уже.
В Мурманске
Федя Физик мерил Мурманск длинными ногами. Был в Облисполкоме, в ОблОНО, в Главрыбе, в Севрыбе, в Севпорту, но везде отвечали: «Экспедиций тут много, а которая где останавливается — не интересуемся». Федя шел к вокзалу по будущей улице, утомленно спотыкаясь о корни: Лиза с вещами ожидала его на вокзале.
Чернобородый, крепкий человек сквозь очки посмотрел на него и сказал:
— Не вы ли, часом, товарищ Физик?
— Да, — отвечал удивленный Федя. —Я — Физик.
— Прекрасно! — сказал чернобородый. — Идемте скорее есть уху и копченого палтуса!
— Почему есть уху? — удивился Федя.
— И палтуса. Обратите внимание на палтуса. Нина велела поторопить вас.
— А где же она?
— На докладе в Облисполкоме.
— Я должен вернуться на вокзал — там сидит Орлова.
— Нет, Елизавета Порфирьевна не сидит на вокзале, а следит, чтобы не перекипела уха. Бык спит и не помешает.
— Какой бык?
— Холмогорской породы, который живет со мной в вагоне, где Елизавета Порфирьевна варит уху.
— Почему же Елизавета Порфирьевна варит уху в вагоне у быка?
— Потому что Нина встречала два петроградских поезда, третий просила встретить меня, так как пошла в Облисполком. Но я опоздал, вы уже ушли. Я забрал Елизавету Порфирьевну к себе в вагон и кинулся за вами, поручив ей уху... Мурманск невелик, человека отыскать можно: своевременно или несколько позже...
— Печурка эта, под названием «буржуйка», служит преисправно, — говорил Крепе, запуская еще порцию рыбы в кастрюлю. — Уха должна быть тройной системы: первая порция — ерш, рыба — собаке. Вторая — окуни — употребляется для концентрации навара и тоже идет собаке. Третья — хариус или кумжа — опускаются в последний момент — на еду.
Лиза смеялась. Ровные белые зубы, стекляшки очков, отлив на гладко зачесанной толстой косе — все отсвечивало розовым от танцующих в печке огоньков. Горбоносый хозяин говорил так, будто они век были знакомы.
— Как ты успела со всеми познакомиться, Нина? — удивилась Лиза.
— Узнать недолго. Ехали вместе с Мореем Ивановичем, помором. Он пригласил к себе в Колу. Записала былины и встретилась с этим джентльменом, — улыбнулась я Крепсу. — Что у вас? Фотопринадлежности привезли?
— Да. — Лиза указала на рюкзак, откуда торчали желтые ножки штатива. — С деньгами хуже. Сережа больше достать не мог.
— Не велика штука — деньги, проживете и так, — сказал Крепе, разливая уху, — рыбки на всех хватит. Каков ваш маршрут?
— Хотим с вами посоветоваться, Герман, в Облисполкоме мне говорили, что лопари сейчас откочевали на лето на реку Воронью. Крепе достал из ящика карту.
— Вот Воронья. По ее течению лопари со стадами идут к морю. Олени гнуса не выдерживают, а у моря его нет.
— Как добраться? — наклонилась над картой Лиза.
— На боте «Областьрыба» до Гаврилова, там поморское стойбище и фактория. А повыше, на Вороньей, лопари ловят семгу.
— Это действительно самое разумное, — Лиза оглядела всех.
— Вы обе, кажется, готовы сегодня плыть на Воронью, — улыбнулся Федя.
— Если бы вы знали, как интересно было в Коле!
— Поморы достойный народ, — кивнул бородой Крепе, — крепкий народ. Это вам не рязанские или тамбовские мужички, эти век шапки ни перед кем не ломали, крепостного права не знали, от новгородских ушкуйников их корень.
— Ну вот, ну вот! А в Гаврилове и поморы, и лопари, — сказала я.
Гаврилово
Председатель обрадовался вдруг появившемуся развлечению: трое незнакомых из Питера! Радостно сел за стол, усадил нас, бумажки рассматривал:
— Так-так... Оказать содействие? Окажем! Дело хорошее, гостите, гостите... Я городским людям рад: помогут революционной сознательностью. Поселю вас к Бушуевым: люди семейные. Хозяйка хорошая, самостоятельная женщина... И светелка порожняя есть. Да вон, — председатель глянул в окно, — бушуевский зуек идет. Олешка! Иди сюда!
В комнату вошел синеглазый худенький мальчик лет десяти.
— Веди к матери. Постояльцы, мол, к вам. В светелке им знатно, и вам не помеха. Ну-к што? Идите!
Олеша оглядел нас задумчивыми синими глазами и улыбнулся:
— Давайте вешши ташшить помогу. — Он взял у Лизы мешок, из которого торчала тренога фотоаппарата.
— Вы чьих? — спросил Олеша на улице.
— Питерские, — весело отвечала я. — А ты чей, мы знаем.
— А ну?
— Бушуевский. Алексей Петрович Бушуев, так?
— Правильно, — удивился Олеша. — Как ты догадалась?
— Слово такое знаю! Пошепчу и каждого человека насквозь вижу, — шутила я. — Хочешь, про тебя все расскажу?
— А ну!
— Лет тебе десять. С отцом тебя мать в море не пускает, балует; любишь ты книжки читать да рисовать, значит, нам родней приходишься! Мы читать, писать да рисовать мастера.
— Как ты знаешь, что я книжки люблю?
— А что у тебя за пазухой?
— Ну книжка!
— То-то! А это? — Я указала на чернильное пятно и след цветного карандаша на рубашке. — Ты, брат, не отпирайся, я все знаю! Олеша засмеялся и покачал головой.
— Прытка девка!
— От меня не спрячешь! Лучше сам все рассказывай.
— Чо ж тебе сказывать?
— Про все, что знаешь. Ты мне — я тебе. Ладно?
— А ты про чо сказывать будешь?
— Про Питер, про города, про всяких людей и про зверей.
— О-о, поди хвасташь?
— Ну сам увидишь. А сейчас скажи, как твою маму звать?
— Онисьей Романовной. Да ты баяла, сама знашь, как человека звать, почто спрашивашь? — лукаво спросил Олеша. Онисья Романовна встретила нас приветливо:
— Ну-к что? Живите! Светелка пустая стоит. Только вот ни лечь, ни сесть там не на что: ни кроватей, ни лавок, ни стола. Постели-то я дам.
— Спасибо, да мы как-нибудь... у нас с собой одеяла, на полу устроимся, нам надо лопарей дождаться.
— Живите, сколько поживется, — сказала она приветливо. Положив вещи, мы пошли осмотреть поселок. Был он невелик: казенная лавка, где выдавали пайки рыбакам, склады для трески, салотопная — для выпарки жира из тресковой печени, несколько громоздких срубов, где жили рыбаки. Немногочисленные дома постоянных жителей. Дошли до реки Вороньей, куда должны были прикочевать лопари. В лавку сведения о нас еще не поступили. Со следующим ботом должны были прислать наш хлебный паек, но когда прибудет этот бот — неизвестно. У нас только остаток привезенных из Мурманска сухарей. Решили — будем питаться грибами, их много...
На третий день туман вышел из океана и захватил землю. Он был так густ, что казалось, бушуевская светелка плавает в нем, как поплавок.
— Три дня, — мрачно сказала Лиза, — три дня уже, как мы приехали, а видим только туман в огромном количестве, в меньшем — скалы и в минимальном — поморов. Хотела бы я знать, когда же приедут лопари?! Безделье угнетает.
— И бескормица тоже, — согласилась я. — Хотела бы я знать, когда же прибудут наши пайки? Сухари уже кончились.
— Обошлись бы и грибами, если бы дело делали, — сурово ответила Лиза.
— А вы пошто трешинку не берете? — спросил Олеша, поднимая голову от тетрадки. О нем мы забыли, так тихо сидел он в светлице, раскрашивая Федиными красками срисованный с журнала пароход. Лежа на животе, высунув язык, он с утра рисовал и красил — первый раз в жизни увидел акварельные краски.
— Как же нам рыбу брать, Алексей Петрович, когда у нас на это денег нет? Только что паек выкупить, — сказал Федя. Олеша засмеялся:
— Нешто за рыбу деньги платят?
— То есть как же без денег?
— Да как полы пристанут, подойдите — вам каждый трешину даст! Нешто могут человеку не дать? Товда рыба ловиться не станет. Так ведется: пристает рыбак и, кто стренется, дает рыбину. Вы бы давно про рыбину-то сказали, — укорил Олеша, — я думал, вы рыбу не едите!
Он вышел из светелки и с грохотом побежал по ступенькам.
— Интересный народ поморы, — сказала я. — Стоит все-таки заняться ими.
— Но мы приехали с другим заданием, Нина, — с упреком сказал Федя.
— Ну до чего же я несознательна! — сказала, отворяя дверь, Онисья Романовна. — Как это не догадалась рыбы предложить! Ведь уха наварена, на всех хватит. Пойдемте, пойдемте, милости прошу ужинать.
На другой день, когда рыбаки возвращались с лова, я села на берегу. Стройная, просмоленная йола с высоко поднятым носом, сложив парус, скользнула к берегу. Парень выпрыгнул на камни, подтянул канат и закрепил его.
Старик с вспененной, кудрявой бородой подвязывал паруса и смотрел на меня светлыми глазами.
— Здравствуйте! — сказала я. — Не знаю, как полагается говорить, когда люди с лова вернулись.
— Как ни скажи, все ладно, дочка, коли от сердца скажешь, — Дружелюбно ответил старик. — Возьми-ка рыбину на уху. Вот с печенкой, мы еще не пластовали. А печень трескова больно сладка в ухе. Едала ты трескову печенку свежую, чужаниночка?
— Нет.
— Ну бери на добро здоровье! Сейчас пластовать станем.
— Скажите, пожалуйста, почему первому встречному всегда дают рыбину? — спросила я.
— А как же? Кого стренешь — надо дать: тебе бог послал, и ты дай, а то море осердится, — убежденно сказал старик.
— Ну, спасибо, дедушка...
Олеша и Борис Иванович
— Ты скажи мне: конь-от, он какой ростом? Как собака, как олень аль поболе? — Олеша поднял на меня синие глаза.
— Ты разве никогда не видел коня, Алешенька?
— На картинках видел, а живого не видывал. Смотрю когда на оленей и думаю: ужели он больше? Он страшный? Как медведь?
— Почему страшный? Ты же видел на картинках! На конях работают, пашут землю.
— Видал-ак, — задумчиво протянул Олеша. — Я вьявь поглядел бы и коня, и как хлеб сеют...
— Ты отсюда не выезжал?
— В Териберку ездил. Корову я там видал, — оживился Олеша. — Така больша, рога таки толстушши! — Он надул губы, руками показывая толщину и тяжесть коровьих рогов.
— Там я и молоко пил коровье... Сладко!
— Ты тут родился, Олеша?
— Не, я по третьему году был, как тятя хоромы здесь поставил. С Онеги мы... Ране он с другим онежаном летовать сюда ходил, а потом хоромы поставил и нас совсем перевел. Я Онегу-то не помню... Только море да камни, чайки да олешки.
Я забавлялась, рассматривая Олешу: русский мальчик не знает ни коня, ни земли, ни телеги... Море — вместо поля. Как странно, подумала я.
— Олеша, а яблоки ты видел?
— Сушеные? — живо сказал Олеша. — Я и яблоки и изюм ел.
— Нет, живые, румяные яблоки, они висят на деревьях, их так много, что ветки гнутся... Олеша засмеялся.
— Эдак в песни поют только:
...Яблочко румяное, Дочушка желанная.
В песнях и про виноградье красно-зеленое поют, а како оно? Растет, бают, завиваясь, как хмель, а я хмеля не видывал. Тут у нас Борис как начнет старины сказывать, всяко насказыват: про сады, про дубы, про Киев-град да про князя Володимира, как заиграют песню, все припеват: «...виноградье красно-зеленое».
— Сведи меня к нему, Алеша!
— Ну-к што-ж! Пойдем!
Олеша поправил поясок на рубашке и степенно повел меня улицей к конторе Облрыбы.
На дверях висел замок.
Олеша вошел в соседнее здание. Там стояли котлы, тянулись чугунные трубы. Лесенка вела на галерейку.
— Борис Иваныч! — крикнул Олеша.
— Ту-ут! — ответили сверху. Над перилами галерейки наклонились худые плечи и острое худощавое лицо с небольшой бородкой.
— Вот я!
— Тут тя питерка спрашиват, — сказал Олеша, — выдь на низ!
— Пошто я питерке занадобился? — хмуро спросили сверху.
— Простите, что беспокою вас, Борис Иванович! — сказала я, выступая в полосу света. — Я студентка, работаю по изучению здешнего края. Очень бы хотела побеседовать с вами.
— Ну добро, — ласковее ответил голос, — подождите — иду! Деревяшка застучала по галерейке, потом по лестнице. Сухонькая, небольшая фигурка, одетая в черную, длинную блузу под ремешком, быстро спустилась.
Борис Иванович подошел, глянул, протянул мне руку. Посмотрел на меня твердыми небольшими глазами в мохнатых бровях. Кости лица обтягивала обветренная темная кожа. Бородка оставляла открытой подвижную губу. Спросил:
— Вы что, рыбоведению обучаетесь? Или по экономике?
— Нет, — призналась я, — занимаюсь я вовсе пустяками — записываю песни, сказки, старые старины, новые новины, добрым людям на утешенье, себе на поученье.
Борис Иванович засмеялся. Потеплели глаза.
— А-а, ну это особ стать. Этим я тоже грешен. Тогда подождите мало время, я тут покончу, да ко мне домой пойдем, побеседуем. Не сочтите за труд, подождите, я чейчас.
Постукивая деревяшкой, Борис Иванович шел впереди, я шла за ним, положив руку на худенькое плечо Олеши. Лесенка из сеней вела в светелку. Мы поднялись. Борис Иванович распахнул дверь.
Я остановилась изумленная: широкое окно сияло лазоревым наличником. За ним блестели серебряные океанские дали, а на фоне их покачивалось привешенное на веревочке к оконному наличнику резное суденышко. Оно было так искусно вырезано и оснащено, что, казалось, приплыло сюда из океана, чудом не увеличившись, и повисло на окне. По бокам его покачивались на таких же шнурочках резанные из тонких стружек птицы. Одна, распустив разноцветный хвост, повернула голову к морю; другая, с девичьим лицом и в высокой короне, смотрела в комнату, сложив на груди ярко-синие крылья. На столе стояли рогатые фигурки оленьчиков, резанные из кости, и такая же резная шкатулка.
Узкая койка у стены была застелена узорным рядном. На бревенчатых стенах висели фотографии: сморщенная старушка в повойнике и темном платке смотрела большими глазами; какой-то норвежский городок с чистыми домиками и судами у пристани; осанистый старик с раздвоенной бородой. В углу стоял деревянный шкафик, ярко раскрашенный птицами, цветами и травами.
Хозяин выдвинул из-за стола табуреты, предлагая садиться, а сам стал, прислонясь к окну, рассматривать меня.
— Борис Иванович! — доверчиво сказала я, поднимая глаза. — Если бы вы знали, как мне интересно жить на свете! Войдешь в комнату к незнакомому человеку, посмотришь: как интересно!
— Любопытствуете к жизни? — усмехнулся Борис Иванович.
— Любопытствую! Нет, пожалуй, больше, чем любопытствую: хочется полюбоваться — откуда это так много в жизни прекрасного?
— Ас непрекрасным как быть? — хмурясь спросил Борис Иванович. Он сжал губы. — Со скверною как?
— Ну, — удивилась я, — мне кажется, оно просто от недоразумения. Хорошего же все хотят! Я думаю, прекрасное должно все расти и расти на земле.
— Что же вы глядеть думаете и чего ищете?
— Приехала из Питера изучать лопарей. Но лопарей пока нет, а интересного кругом много! В Коле я будто в сказку попала. Пела там старины Марфа Олсуфьевна Шаньгина...
— Про Шаньгину я наслышан, — кивнул головой Борис Иванович, — наслышан: женка память имеет твердую и голос хороший. Но сам ее не слыхал. Учился у другой великой души женщины, — он указал тонким сухим пальцем фотографию на стене, — Мария Дмитриевна Кривополенова. Мастерица была и утешительница.
— Так вы близко знали Кривополенову?
— Знавал. Я с детства любитель был песен. Как потерял я ногу, она и говорит: «Калека ты, Борис, теперь не работник. Самое тебе дело петь — людям на потеху, себе на усладу, старине на прославление. Ты запоминай-ка». И стала с голосу учить. Песни хранят старину, тем и важны они. — Борис Иванович кивнул головой. Сел, положив на стол руки. — Слушайте, когда так:
Во Таульи, во городе
Во Тауль во хорошеем —
Поизволил наш царь-государь,
Да царь Иван Васильевич,
Он поизволил жонитися.
Да не у нас, не у нас на Руси,
Да не у нас во каменной Москве,
Да у царя во Большой Орде
Кострюка, сына Демрюковича,
Да у него на родной сестре
Да на Марии Демрюковне...
Пел Борис Иванович негромко, протяжно и однотонно, широко открывая рот и покачивая седоватой головой.
Сначала я усомнилась даже — пение ли это? Но чем дольше он пел, тем яснее выступали Москва, царские палаты, звенели свадебные чаши.
Глаза Бориса Ивановича смотрели вдаль, будто изумляясь встающим воспоминаниям. В однообразном ритме, в троекратной повторно-сти нарастала многократность передачи, отложились переживания многих человеческих душ. Песня несла слова, как река раковины: с мерным, повторяющимся рокотом. Я слушала, держа карандаш.
— Я бы очень хотела про Кострюка записать. Может, вы продиктуете?
— Могу... Могу и сам записать...
— Я боюсь, Борис Иванович, что вы запишете слишком грамотно, — засмеялась я.
— Запишу, сколь обучен, — нахмурился Борис Иванович.
— Ну да, а надо не так, как мы с вами грамматике обучены, а как слышится, тогда остается говор. Вы знаете, что в разных местах говорят различно. С говора записанная песня скажет, откуда она пришла, это ключик к ее истории.
— Понимаю, — кивнул Борис Иванович, - для того и в трубу записывают?
— Борис Иванович, ты спой ей про виноградье. Вишь, мы не знам, како виноградье, а поем! — вдруг сказал Олеша. Он тихо сидел на порожке.
Борис Иванович погладил бородку и запел:
Виноградье красно-зелено
Да ишшо кто такой стучит,
Да во светых-то вечерах?
Да во светых-то вечерах
Да виноградчица стучит.
Да ишшо спрашиват ребята
Да господина во дворах
Да ишшо около двора,
Да все трава, да мурава
Да цветы лазуревы...
Олеша смотрел расширенными глазами: казалось, он видел удивительные лазуревые цветы. Чем дальше пел Борис Иванович, тем больше развертывалось то, что жило не в словах, не в ритме, а в отзвуке прошлого, долетавшего в глуховатом голосе сказителя.
Мы заговорили о старообрядцах.
— Книги древнего письма, Борис Иванович, как и всякие книги, — говорила я, — отражают точку зрения группы людей, их писавших. Те, кто писал до Никона, отразили свое понимание греческих текстов, с которых переводили, Никон — свое. В этом ли дело? Разве надо так держаться за букву?
— Я и не держусь, — отвечал Борис Иванович. — Дело не в букве и не в двуперстии, а в том, что насилием введенное духа лишается. Сказ есть: стоит Россия, не проваливается, потому что три старца неведомых в лесах за нее молятся. Перестанут они молиться — и рухнет все...
Борис Иванович посмотрел на меня и добавил:
— Может, и не молятся они, а просто помнят да помалкивают. И того довольно. Беда приходит, когда обеспамятует народ. Понимаете, что сказать хочу?
— Нет, — призналась я.
— Видно, не имею слов настоящих... А чую... Будто вьется ниточка аль стежка по полю. Идет и идет по ней кто-то. От самого Киева до Архангельска — все идет. Многие сотни лет, а памятует: надо идти вперед... Сила великая в том, что сердце помнит...
— Я думаю, что это называется традиция культуры, — сказала я, — но ведь большая сила, Борис Иванович, не только в сохранении, но и в новом.
— Новое не отрицаю. Но чтобы разобраться — старое понимать надо. Его слова я запомнила на всю жизнь.
От редакции
Нина Ивановна Гаген-Торн принадлежит к поколению ученых, которые не только заложили основы советской этнографической науки, но и приложили колоссальные усилия для того, чтобы сразу же после Великой Октябрьской социалистической революции приобщить отсталые народы к новой жизни. Социалистическое переустройство хозяйства, быта и культуры коснулось не только малых народов, населяющих северные окраины России, но и всего населения отдаленных провинций, в которых господствовал уклад, являвшийся анахронизмом даже для прошлого века.
С первых лет Советской власти партией была поставлена задача «последовательной ликвидации всех остатков национального неравенства во всех отраслях общественной и хозяйственной жизни». И ученые-этнографы не остались сторонними наблюдателями. Особая роль в этой важнейшей работе выпала на долю студентов и выпускников географического факультета Ленинградского университета. Здесь создавались кадры работников, посвятивших себя скорейшему преодолению отсталости северного населения. Видные этнографы — В. Г. Богораз-Тан, С. А. Бутурлин, С. В. Керцелли, Л. Я. Штернберг — вошли в Комитет содействия северным окраинам ВЦИК, которым руководил старый большевик-ленинец П. Г. Смидович. Лучшие из лучших их ученики отправлялись в отдаленные районы, чтобы участвовать в создании письменности, заниматься педагогической работой.
В историю социалистического строительства на Севере вписаны имена таких выдающихся исследователей, как супруги Г. Н. и Е. Н. Прокофьевы, В. Н. Чернецов, В. Н. Цинциус, Г. М. Василевич, Г. Д. Вербов, П. Я. Скорик, Б. О. Долгих, И. С. Вдовин, Г. А. Меновщиков. Это они создали атмосферу самоотверженности и полной самоотдачи благородным целям.
Трудно измерить их вклад в дело прогресса. Но, говоря сейчас о возрождении обреченных ранее народов, стоявших еще в начале нашего века на стадии родового строя, о выдающихся достижениях их во всех областях хозяйственной и общественной жизни, мы всегда с благодарностью помним о той плеяде замечательных людей, к которым относится и Нина Ивановна Гаген-Торн.
Резолюция Х съезда РКП (б) «Об очередных задачах партии в национальном вопросе». — В сб.: КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК, т. 2. М., 1983, с. 367.
<< Назад Далее >>
Вернуться: Полярный круг
Будь на связи
- Email:
- nomad@gmail.ru
- Skype:
- nomadskype
О сайте
Тексты книг о технике туризма, походах, снаряжении, маршрутах, водных путях, горах и пр. Путеводители, карты, туристические справочники и т.д. Активный отдых и туризм за городом и в горах. Cтатьи про снаряжение, путешествия, маршруты.